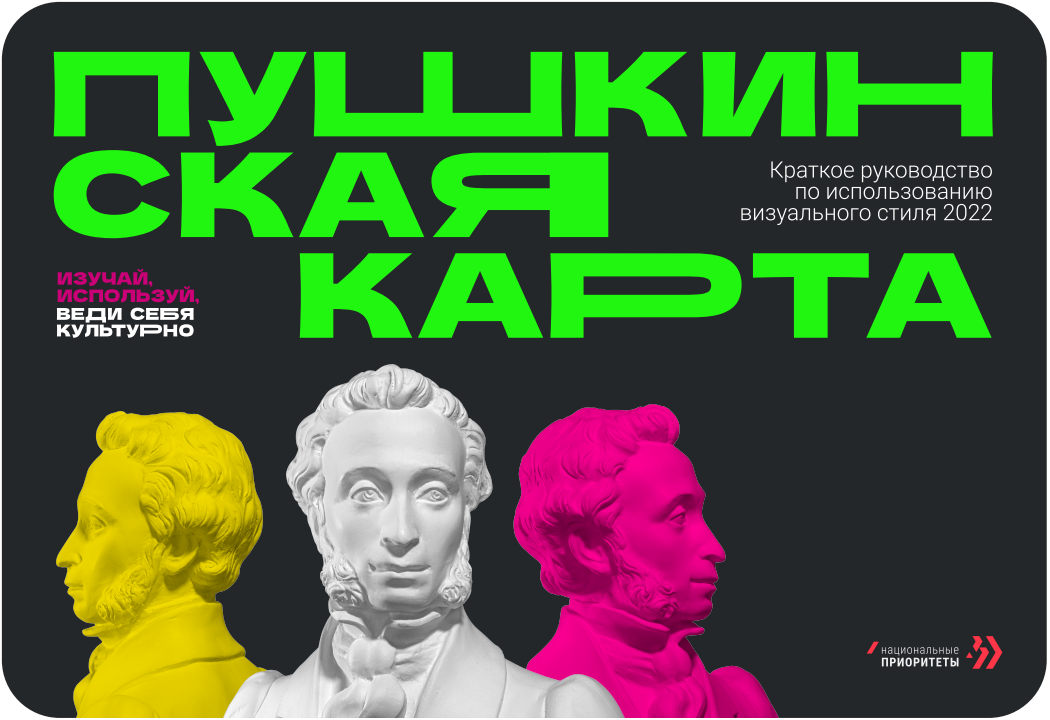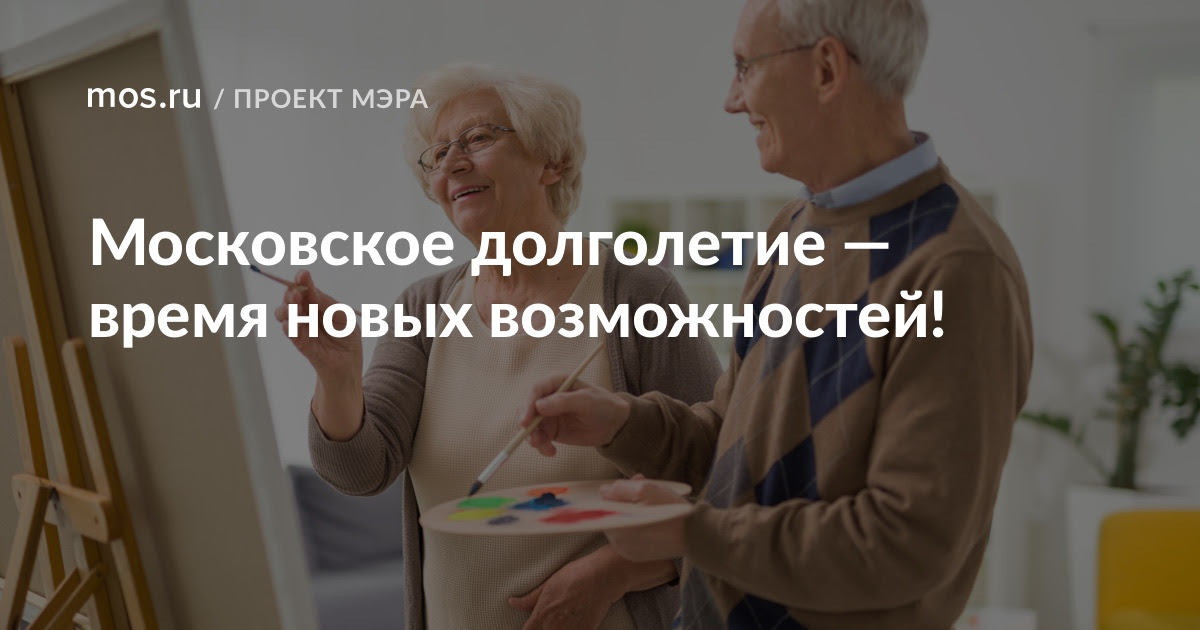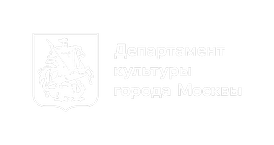|
|
СЛОВО О ПУШКИНЕ
 29 января (10 февраля по новому стилю) 1837 года в 2 часа 45 минут пополудни Пушкина не стало. Русская история продолжилась уже без него. 29 января (10 февраля по новому стилю) 1837 года в 2 часа 45 минут пополудни Пушкина не стало. Русская история продолжилась уже без него.
Будь Пушкин сейчас с нами, мы, наверное, были бы другими.
Нам не достаёт не только его слова (оно есть у нас), но и живого Пушкина, великого человека, перед лицом которого было бы стыдно делать то, что мы делали и продолжаем делать. Пушкин - это солнце, а солнце над Россией должно стоять каждый день, просветляя каждого из нас и разгоняя тьму.
«Выше, выше!» - просил умирающий Пушкин стоящего у его изголовья Владимира Даля, И тот приподнял его голову к высящимся над постелью полкам с книгами.
Но не туда хотел подняться Пушкин. Вспомним его стихотворение о монастыре на Казбеке. Туда рванулось его сердце: «В соседство Бога скрыться мне».
Пушкин как-то назвал Гёте протеем. Протей - это морское божество, которому дан дар прорицания и обновления. Протей меняет облик, меняется внутренне, дабы в следующее своё появление из пучины предстать перед миром в ином образе.
Пушкин многолик, неохватен и, если хотите, непознаваем.
«Евгений Онегин». Что это - роман или исповедь? Гоголь писал по этому поводу: «Столкнувши с места своих героев», автор «сам стал на их место» И потому «самое замечательное в «Онегине» - что строилось внутри самой души» Пушкина.
Какие перемены! Какие колебания жизни, страстей и любви, трагического и смешного и ищущей смысла истины!
С детства я, кажется, рос рядом с Пушкиным. Сначала читая его сказки, затем «Онегина», «Маленькие трагедии», «Историю Пугачёва» и, наконец, «Капитанскую дочку». И всякий раз приходилось подниматься на новую ступень, с высоты которой виднее и виднее делался сам себе и мир вокруг.
Пушкин нас вырастил и создал, как создал, превозмогая соблазны и заблуждения, себя. Началось с «бешеной младости», поклоняющейся необузданной свободе, и завершилось молитвой Ефрема Сирина, которая звучит в стихотворении «Отцы пустынники и жены непорочные...»:
Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
А юный Пушкин, молодой Пушкин был Пушкин протеста и вызова. В оде «Вольность» (1817 год) он писал:
Хочу воспеть свободу миру,
На тронах поразить порок.
Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон и ненавижу.
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
На эти свирепые строки вскоре ответил Тютчев: «Певец!.. Своей волшебною струною смягчай, а не тревожь сердца».
Что же касается протестного пылания молодости, то в статье «Александр Радищев» (1836г.) Пушкин наложил на него вето. «Нет убедительности в поношениях и нет истины, где нет любви». Таков символ веры позднего Пушкина. Любовь - это преображение, самовоспитание, поклонение красоте, милосердие («милость к падшим»), а также бесстрашие перед жизнью и перед смертью. И, конечно, взыскательный взгляд на себя: «Напрасно я бегу к Сионским высотам, грех алчный гонится за мною попятам», - признается он без стеснения.
В одной только «Гаврилиаде», этой дерзкой пародии на священное Таинство Благовещения, он чуть не переступит гибельную черту. Но остановит себя: «Я с отвращением читаю жизнь свою, и трепещу и проклинаю, и горько слёзы лью... но строк печальных не смываю».
Это уже не «протестный» Пушкин его молодости, а осознавший своё призвание великий поэт. Другой великий русский человек Ивапн Ильин в статье «Пророческое призвание Пушкина» писал: «Пушкину надлежало включить в себя всё величие, все силы и богатства русской души, её дары и её таланты, и, в то же время, все её соблазны и опасности, всю необузданность её темперамента, все исторически возникшие недостатки и заблуждения; и всё это - пережечь, перекалить, переплавить в огне гениального вдохновения: из душевного хаоса создать душевный космос и показать русскому человеку, к чему он призван, что он может, что в нём возложено, чего он бессознательно ищёт, какие глубины дремлют в нём, какие высоты зовут его».
Через 18 лет после написания оды «Вольность» Пушкин отказывается верить в то, во что он верил, «Когда за призраком свободы Нас Брут отчаянно водил».
Теперь для Пушкина такая свобода, тем более, поощряющая цареубийство, есть призрак, то есть обман. Какой путь пришлось пройти Пушкину, чтоб подняться над самим собой! Говоря словами Серафима Саровского, он «погрузил ум внутрь сердца», и сердце осветило ум, стихи и саму жизнь Пушкина и вконец развело его с заблуждениями молодости.
Недорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Иная, лучшая потребна мне свобода...
Что же это за иная, лучшая свобода? На этот вопрос ответил Блок: «Пушкин, тайную свободу пели мы вослед тебе». То не свобода словесных прав, кичащаяся своим превосходством над всем в мире, это «свобода душевная» (слова Ильина), «ответственная свобода духа» (тоже Ильин), свобода любви и прощения.
В знаменитом стихотворении Пушкина «Памятник», где речь идёт о монументе, воздвигнутом поэтом самому себе, есть строка: «Вознёсся выше он главою непокорной Александрийского столпа». Известно, что на вершине Александровской колонны на Дворцовой площади Петербурга стоит ангел. Можно ли допустить, что поэт в порыве гордыни поставил себя выше ангела?
Конечно, нет.
Душа поэта, расставшись с телом, взлетает на вершину Колонны, и ангел обнимает её своим крылом и возносит туда, о чём Пушкин просил перед смертью: «Выше, выше!». Именно там, в небесах увидит он, как в стихотворении «Странник» (1835г.), «некий свет» и спасенье и «тесные Врата».
Игорь Золотусский
|
|
 В Государственном музее А.С. Пушкина
В Государственном музее А.С. Пушкина